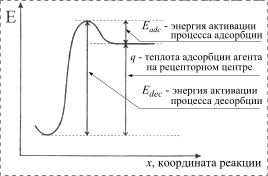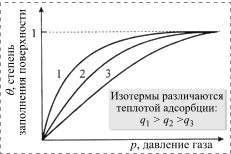С.М. Репинский, д-р хим. наук, Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ
СЕНСОРОВ
Часть первая
![]()
|
Закономерности рецепции газов рассматриваются как
адсорбционно-десорбционный процесс, характеристики которого определяют
основные параметры твердотельных химических газовых сенсоров, такие как
чувствительность, порог обнаружения и быстродействие. Проблема технологии
получения чувствительного слоя сенсора сводится к задаче создания
организованных молекулярных ансамблей, содержащих необходимый набор
рецепторных центров. Физико-химический подход демонстрируется на примерах
интегрально-емкостного, поляризационно-оптического и микроакустического типов
твердотельных газовых сенсоров SO2. |
Проблема распознавания запахов
Понятие организованного
молекулярного ансамбля
Рецепция газа как
адсорбционно-десорбционный процесс
Разработка чувствительного слоя с
рецепторами SO2
Разработки и исследования в области газовых сенсоров стимулируются потребностями контроля окружающей среды и среды жизнедеятельности человека. Эти исследования также необходимы для создания средств технологического контроля в химических, металлургических, газо-, угле- и нефтедобывающих производствах.
Основное преимущество химических твердотельных сенсоров в сравнении с такими инструментальными методами контроля, как хроматография, оптическая спектроскопия или масс-спектроскопия, заключается в их портативности. Это и позволяет решать задачи качественного и количественного анализа состава газовой фазы посредством устройств индивидуального контроля.
По принципу действия и технологии изготовления различают следующие типы сенсоров:
· электрохимические (потенциометрия и кулонометрия на твердых электролитах) [1,2];
· каталитические или калориметрические (фиксация теплового эффекта гетерогенной реакции горения газа) [3-5];
· полупроводниковые (кондуктометрия оксидов металлов) [6,7];
· микроэлектронные (диодные или транзисторные структуры, системы полупроводник-диэлектрик или металл-диэлектрик-металл) [8,9];
· микроакустические;
· поляризационно-оптические (о которых речь пойдет впереди).
Электрохимические сенсоры измеряют изменение потенциала или проводимости чувствительного элемента на основе твердых электролитов в зависимости от концентрации активного компонента газа. Каталитические сенсоры фиксируют изменение температуры при экзотермической реакции окисления горючего газа или пара на поверхности катализатора. Полупроводниковые сенсоры построены обычно на основе металлоксидных систем, проводимость которых изменяется в зависимости от типа и концентрации газа. К микроэлектронным сенсорам относят структуры, содержащие полевой транзистор, емкостной или диодный элементы, характеристики которых являются функциями состава газовой среды. Микроакустические сенсоры измеряют сдвиг частоты акустического резонатора в зависимости от состава газовой среды.
Электрохимические сенсоры уже в течение нескольких лет выпускает ряд фирм. Каталитические сенсоры находят широкое применение для контроля содержания горючих газов типа углеводородов. Полупроводниковые сенсоры при относительно низкой стоимости имеют малый ресурс работы и невысокую селективность в анализе газовых смесей. Микроэлектронные сенсоры привлекательны по той причине, что при их производстве используют стандартные линии изготовления интегральных схем, и в принципе удается в однокристальном исполнении совместить чувствительный элемент и схему электронного преобразователя [10]. Хотя микроакустические сенсоры не вышли за пределы исследовательских лабораторий, но по ряду контролируемых газов такие датчики имеют рекордно низкие пределы обнаружения.
При всем разнообразии устройств в любом из перечисленных типов сенсоров можно выделить два непременных элемента конструкции: чувствительный слой и первичный электронный преобразователь. Чувствительный слой в отдельных случаях может иметь толщину порядка атомных или молекулярных размеров, как например слой Гельмгольца в электрохимических сенсорах, а в случае каталитических сенсоров – адсорбционный слой. Но во многих других типах датчиков чувствительный слой может представлять собой пленку микронной толщины, свойства которой будут определяться не только химическим составом, но и внутренней структурой пор, или строением внутренней поверхности пленки.
Сказанное можно коротко пояснить примерами. В каталитическом сенсоре горючих газов на основе тонкой платиновой проволоки (так называемый пеллистор) чувствительный слой образуется за счет адсорбированных молекул кислорода и горючих газов (водород, метан или другой углеводород). В сенсоре на основе полевого транзистора с открытым затвором чувствительный слой формируется на основе слоев диоксида кремния толщиной в несколько десятков нанометров.
Молекулярный механизм функционирования чувствительного слоя всегда включает стадии адсорбционного взаимодействия молекул газа с поверхностью слоя.
Настоящая статья посвящена анализу закономерностей молекулярного механизма процессов в чувствительных слоях и демонстрации конкретных примеров применения физико-химического подхода при проектировании газовых твердотельных сенсоров.
Проблема распознавания запахов
Современный подход к проблеме рецепции запахов сложился не сразу и имеет поучительную историю, о которой следует сказать несколько слов.
В начале XX века развитию волновой механики сопутствовало установление природы действия органов зрения и слуха. Естественной казалась попытка свести восприятие запаха к волновой природе. В своих воспоминаниях А.Ф. Иоффе писал:
“Меня увлекала идея о далеко идущей аналогии физической природы зрения, слуха, запаха и вкуса, создающих безграничное многообразие ощущений путем сочетания колебаний. Очень убедительным мне показалось объяснение цветовых ощущений: все разнообразие цветов возникает в зависимости от соотношения возбуждений всего трех видов нервных окончаний в глазу. Но ведь тогда и запахи с их многообразием должны иметь разумное объяснение – не может же существовать столько различных нервов, сколько разных запахов. Глазные нервы возбуждаются световыми волнами различной частоты, но как же возникают запахи? Не такими ли колебаниями, но только другой частоты, недоступной глазу?” [11].
Необходимо было время на то, чтобы были установлены закономерности взаимодействия газов с поверхностями твердых тел и стали ясными выработанные в процессе биологической эволюции механизмы функционирования сенсорных систем в живых организмах. Сенсорные системы воспринимают изменения сигнала в широких диапазонах и обладают такой предельно высокой чувствительностью, которую только допускают законы физики и химии. Сигнал, воспринимаемый специализированной рецепторной клеткой, как правило, лишь незначительно превышает уровень энергии тепловых шумов молекул. Именно такому абсолютному порогу чувствительности соответствуют сигналы, равные энергии одного фотона или электрического напряжения, не превышающего 10 нВ/см, для зрительной, слуховой и электрорецепторной клеток соответственно. В случае хеморецепции (обоняния) многие органические соединения воспринимаются в концентрации менее 10-12 молекул в одном литре. Классическим примером может служить обонятельная клетка самца шелкопряда, способная обнаружить в воздухе одну единственную молекулу полового аттрактанта (феромона) [12].
Механизм распознавания запахов живыми организмами заключается в том, что рецепторы органов обоняния имеют центры, характеризуемые определенными стереохимическими размерами, и взаимодействие их с газообразными молекулами возможно лишь при условиях комплиментарности, т.е. в условиях, отвечающих принципу “ключ – замок” или “гость – хозяин” [13-15]. Рецепторная клетка воспринимает сигнал определенной модальности и преобразует его в электрический потенциал, который кодируется, и как сенсорная информация передается в мозг. При этом используется многоуровневая система биологического усиления сигнала, генерируемого рецепторным ансамблем.
По-существу, рецепторные клетки – это высокоспециализированные молекулярные ансамбли, воспринимающие сигналы извне или изнутри организма и выполняющие функцию аналогового преобразования.
Понятие организованного молекулярного ансамбля
Понятие организованного молекулярного ансамбля [16-19] возникло в 70-е годы и оно связано с созданием новой стратегии научных исследований, которая получила название молекулярной инженерии. Это направление может быть охарактеризовано словами одного из пионеров работ в этой области X. Куна:
“Молекулярная
инженерия – это проектирование и создание сложной молекулярной системы, части которой
соединены и взаимодействуют друг с другом как части механизма. В прошлом, да и
в настоящее время основной интерес химиков был связан с определенными
молекулярными веществами. Сегодня химик привлечен к созданию организованных
систем заданным образом взаимодействующих молекул. Синтез молекул как будущих
компонентов проектируемого ансамбля, как “разумного” (“intelligent”)
устройства становится захватывающей и обещающей целью препаративной химии в
приложениях к развитию микроэлектроники, интегральной оптики, элементов памяти,
микросенсоров, новых катализаторов и устройств преобразования солнечного
излучения. Очевидно, что инженерия на молекулярном уровне в значительной
степени стимулируется молекулярной биологией, объясняющей как взаимодействие
молекул приводит к образованию сложнейших систем. Но молекулярная инженерия
имеет свой собственный стиль и определенный подход к проблемам, совершенно отличный
от молекулярной биологии, можно сказать, свою культуру.
Важно отметить две особенности молекулярной инженерии. Во-первых, молекулярная инженерия – это инструмент конструирования организованных молекулярных агрегатов. Во-вторых, молекулярная инженерия – это тип мышления на уровне понятий о молекулярных механизмах: определение основных принципов молекулярных механизмов и поиск путей воссоздания подобных систем. Как сконструировать молекулярный ансамбль для заданной цели и как выбрать рациональный путь изготовления такого устройства?”
Организованный молекулярный ансамбль представляет собой группировку атомов или молекул, за счет химического или межмолекулярного взаимодействия встроенных в матрицу. Отличительной чертой организованного молекулярного ансамбля служит способность создавать соответствующий отклик на определенное возмущение системы, т.е. функциональность. Единичные атомные или молекулярные образования, составляющие ансамбль, определенным образом включены в матрицу и находятся с ней в электронфононном взаимодействии. Часто в количественном соотношении такие ансамбли присутствуют лишь в малом содержании, и поэтому многие физико-химические и термодинамические свойства матрицы могут незначительно отличаться от свойств индивидуального соединения.
Индивидуальной характеристикой ансамбля служит химический состав и ближний порядок группировки атомов или молекул его образующих. Простейший ансамбль состоит из единичного атома, как например, дефект или примесь кристаллической решетки, или единичной молекулы, встроенной во внутреннюю полость структурированной жидкости, классическим типом которой служит вода. Связь ансамбля с матрицей может осуществляться посредством слабого межмолекулярного взаимодействия, как в случае образования мицелл. В другом крайнем случае взаимодействие может осуществляться за счет образования прочных ковалентных связей, как например, при образовании рецепторных центров в полисилоксановой матрице. Размещение ансамбля в матрице задается способом получения системы и строением матрицы. При этом возможны случаи, когда ансамбли распределены в объеме матрицы, находясь на расстояниях, сопоставимых с характерным размером самого ансамбля. Этот случай представляет трехмерную топологию их размещения. Если размещение ансамблей задается плоскостью, то мы имеем дело с двумерной системой.
Способы получения организованных молекулярных ансамблей разнообразны. Так они могут быть получены в результате термодинамически равновесного процесса или как продукт самоорганизации определенных химически реагирующих сред. Удобным способом создания ансамблей служит метод Ленгмюра-Блоджетт, в котором осуществляется последовательный перенос с поверхности жидкой фазы на твердую подложку мономолекулярных слоев амфифильных молекул. Это пример простейшего ансамбля. В таких системах отношение активной поверхности молекулярных слоев к объему системы сравнительно велико и, как следствие, взаимодействие молекул газовой фазы с амфифильными молекулами вызывает значительное и быстрое изменение свойств всего ансамбля.
Другими методами создания молекулярных ансамблей служат процессы последовательной адсорбции нескольких компонентов (молекулярное наслаивание), процессы совместной коагуляции, например с участием полисилоксанов (золь-гель технология), или процессы с участием интеркалятов и матриц с большой внутренней поверхностью, типа силикагелей и цеолитов.
Проблема создания химических сенсоров сводится к задаче построения молекулярного ансамбля, обладающего набором рецепторных группировок, способных в силу химических, стереохимических или топологических особенностей к селективному взаимодействию с определяемыми молекулами газа.
В интересующем нас плане рассмотрим два типа организованных молекулярных ансамблей. Это ансамбли на основе мультимолекулярных композиций, получаемых по методу Ленгмюра-Блоджетт, и тонкослойные системы на основе стеклообразных и аморфных слоев диоксида кремния, в матрицу которого введены фрагменты органических молекул или кластеры металлов атомарной дисперсности.
Рецепция газа как адсорбционно-десорбционный процесс
Процесс распознавания газа при работе твердотельного
сенсора, как правило, представляет собой обратимую реакцию идентифицируемой
молекулы газовой фазы ![]() (агент) с рецепторным
центром
(агент) с рецепторным
центром ![]() , встроенным в матрицу чувствительного слоя
, встроенным в матрицу чувствительного слоя ![]() :
:
![]() . (R-I)
. (R-I)
Промежуточное соединение ![]() , или адсорбционный комплекс, возникает за счет сил
Ван-дер-Ваальса, поляризационного взаимодействия, донорно-акцепторной,
координационной или водородной связи. Ниже подробно рассмотрены примеры сенсора
на SO2, в котором
рецепторные центры созданы на основе производных аминов. Такого характера
процессы типичны для полупроводниковых, электрохимических, микроэлектронных,
поляризационно-оптических и микроакустических сенсоров.
, или адсорбционный комплекс, возникает за счет сил
Ван-дер-Ваальса, поляризационного взаимодействия, донорно-акцепторной,
координационной или водородной связи. Ниже подробно рассмотрены примеры сенсора
на SO2, в котором
рецепторные центры созданы на основе производных аминов. Такого характера
процессы типичны для полупроводниковых, электрохимических, микроэлектронных,
поляризационно-оптических и микроакустических сенсоров.
Для каталитических сенсоров, например горючих газов, схема усложняется и становится многостадийной, как в случае сенсора на основе платины:
![]() , (R-II)
, (R-II)
где ![]() – это адсорбированные
продукты гетерогенного горения метана.
– это адсорбированные
продукты гетерогенного горения метана.
Скорость установления равновесия реакции (R-I) определяется
скоростями адсорбции ![]() и десорбции
и десорбции ![]() с рецепторного центра
с рецепторного центра ![]() . Скорость установления равновесия реакции типа (R-II)
определяется скоростями адсорбции
. Скорость установления равновесия реакции типа (R-II)
определяется скоростями адсорбции ![]() и десорбции продуктов
реакции с поверхности каталитического датчика.
и десорбции продуктов
реакции с поверхности каталитического датчика.
Напомним известные соотношения для скорости адсорбции [19,20]:
![]() (1)
(1)
и скорости десорбции
![]() , (2)
, (2)
в которых ![]() – парциальное давление
газа
– парциальное давление
газа ![]() ;
; ![]() – коэффициент
конденсации молекул
– коэффициент
конденсации молекул ![]() ;
; ![]() – степень заполнения
рецепторных центров;
– степень заполнения
рецепторных центров; ![]() – молекулярная масса
молекул
– молекулярная масса
молекул ![]() ;
; ![]() и
и ![]() – энергии активации
стадий адсорбции и десорбции соответственно;
– энергии активации
стадий адсорбции и десорбции соответственно; ![]() – поверхностная
концентрация рецепторных центров;
– поверхностная
концентрация рецепторных центров; ![]() – частота термических
колебаний адсорбционного комплекса,
– частота термических
колебаний адсорбционного комплекса,![]() с-1;
с-1; ![]() – газовая постоянная;
– газовая постоянная; ![]() – температура, К.
– температура, К.
Скорость адсорбции – это быстрый процесс. Обычно
энергия активации адсорбции ![]() равна нулю или не
превышает 8-10 кДж/моль, поэтому при парциальном давлении анализируемого
газа на уровне 10-3 Торр или разбавлении 1 млн-1
(1 часть на миллион), процесс адсорбции не ограничивает быстроту срабатывания
датчика.
равна нулю или не
превышает 8-10 кДж/моль, поэтому при парциальном давлении анализируемого
газа на уровне 10-3 Торр или разбавлении 1 млн-1
(1 часть на миллион), процесс адсорбции не ограничивает быстроту срабатывания
датчика.
Процесс адсорбции всегда сопровождается выделением
теплоты (экзотермический процесс). Схематично эта особенность показана на
рис. 1. Важно обратить внимание, что при теплоте адсорбции ![]() энергия активации
обратного процесса десорбции равна
энергия активации
обратного процесса десорбции равна ![]() . Поэтому понятно, что если теплота адсорбции близка к
значению химической связи 200-400 кДж/моль, то процесс десорбции при нормальных
температурах становится необратимым. Конечно при проектировании газового
сенсора предпочтительнее работа при нормальных температурах и тем самым
определяется критерий создания соответствующего организованного молекулярного ансамбля
как рецептора данного газа.
. Поэтому понятно, что если теплота адсорбции близка к
значению химической связи 200-400 кДж/моль, то процесс десорбции при нормальных
температурах становится необратимым. Конечно при проектировании газового
сенсора предпочтительнее работа при нормальных температурах и тем самым
определяется критерий создания соответствующего организованного молекулярного ансамбля
как рецептора данного газа.
|
|
|
Рис. 1. Изменение энергии |
Значение теплоты адсорбции, допускающее работу сенсора
при нормальной температуре, нетрудно определить. Ясно, что время срабатывания
сенсора должно быть не больше, чем 60 с, отсюда, используя соотношение
(2), найдем, что теплота взаимодействия рецептор-агент не должна превышать
60 кДж/моль. Вместе с тем необходимо принимать во внимание, что при существенном
уменьшении ![]() , происходит снижение степени заполнения рецепторных центров
и как следствие, ухудшение такой характеристики сенсора, как порог обнаружения
агента.
, происходит снижение степени заполнения рецепторных центров
и как следствие, ухудшение такой характеристики сенсора, как порог обнаружения
агента.
Другая важная для рассматриваемой проблемы особенность
процесса адсорбции заключается в том, что степень заполнения поверхности ![]() нелинейно зависит от
давления газа. При этом, естественно, нарушается линейность показаний сенсора.
Типичная зависимость степени заполнения поверхности
нелинейно зависит от
давления газа. При этом, естественно, нарушается линейность показаний сенсора.
Типичная зависимость степени заполнения поверхности ![]() от давления газа
от давления газа ![]() известна как изотерма
Ленгмюра, которая представлена на рис. 2. Особенность такой зависимости в
том, что в диапазоне малых концентраций степень заполнения линейно возрастает с
концентрацией агента (область Генри). При относительно больших концентрациях
заполнение поверхности достигает монослойного покрытия и зависимость выходит на
предельное значение. На рис. 2 можно видеть, что в зависимости от значения
теплоты адсорбции монослойное заполнение достигается при меньших значениях
концентрации для случая сравнительно высоких значений теплоты адсорбции. Иными
словами, это значит, что крутизна характеристики сенсора будет больше, или соответственно
выше чувствительность в системе рецептор–агент с относительно высоким тепловым
эффектом.
известна как изотерма
Ленгмюра, которая представлена на рис. 2. Особенность такой зависимости в
том, что в диапазоне малых концентраций степень заполнения линейно возрастает с
концентрацией агента (область Генри). При относительно больших концентрациях
заполнение поверхности достигает монослойного покрытия и зависимость выходит на
предельное значение. На рис. 2 можно видеть, что в зависимости от значения
теплоты адсорбции монослойное заполнение достигается при меньших значениях
концентрации для случая сравнительно высоких значений теплоты адсорбции. Иными
словами, это значит, что крутизна характеристики сенсора будет больше, или соответственно
выше чувствительность в системе рецептор–агент с относительно высоким тепловым
эффектом.
|
|
|
Рис. 2. Изотерма адсорбции Ленгмюра |
Количественно такая зависимость определяется константой адсорбционного равновесия
![]() , (3)
, (3)
где ![]() ,
, ![]() и
и ![]() – статистические суммы
по состояниям соответственно для адсорбционного комплекса, рецептора и агента.
Статистические суммы по состояниям включают в себя произведение статистических
сомножителей, отвечающих поступательным, вращательным и колебательным степеням
свободы движения молекулы газа, рецептора и адсорбционного комплекса.
– статистические суммы
по состояниям соответственно для адсорбционного комплекса, рецептора и агента.
Статистические суммы по состояниям включают в себя произведение статистических
сомножителей, отвечающих поступательным, вращательным и колебательным степеням
свободы движения молекулы газа, рецептора и адсорбционного комплекса.
Анализ экспериментальных данных по адсорбции таких
газов и паров, как Н2О, NH3, О2, Вr2 показывает, что при нормальной температуре
значение ![]() имеет порядок 10-3-10-4 Торр
или 10-18-10-17 л/молекул. Это означает, что при
регистрации газа на уровне 1 млн-1 степени заполнения
рецепторных центров
имеет порядок 10-3-10-4 Торр
или 10-18-10-17 л/молекул. Это означает, что при
регистрации газа на уровне 1 млн-1 степени заполнения
рецепторных центров ![]() будут порядка 0,01-0,1
мо-нослойного заполнения.
будут порядка 0,01-0,1
мо-нослойного заполнения.
Порог обнаружения определяется способом регистрации отклика при воздействии детектируемого газа на чувствительный элемент. Можно привести некоторые оценки, рассматривая для примера датчик влажности. Так для полупроводникового датчика воспользуемся данными о влиянии паров воды на проводимость германия. Известно, что методом измерения поверхностной проводимости фиксируется присутствие 1010 поверхностных состояний донорного типа, возникающих при адсорбции воды.
Это отвечает значениям ![]() , а при характерных значениях
, а при характерных значениях ![]() Торр-1,
получим значение
Торр-1,
получим значение ![]() Торр
(1,33 Па). При нормальной температуре можно этим способом регистрировать содержание
водяного пара при разбавлениях
Торр
(1,33 Па). При нормальной температуре можно этим способом регистрировать содержание
водяного пара при разбавлениях ![]() или 0,04% отн. влажности.
Предел регистрации микроакустическим методом составляет 10-16г/см,
для воды это отвечает
или 0,04% отн. влажности.
Предел регистрации микроакустическим методом составляет 10-16г/см,
для воды это отвечает ![]() молекул/см2, т.е. предел обнаружения
соответствует разбавлениям
молекул/см2, т.е. предел обнаружения
соответствует разбавлениям ![]() .
.
По мотивам упрощения конструкции и снижения энергопотребления конечно крайне желательна работа сенсора при температурах, близких к нормальной. Однако по ряду причин это невозможно сделать. Каталитические и электрохимические сенсоры работают при температурах 300-600°С по причине того, что невозможно добиться обратимости адсорбционных процессов при более низких температурах. Для некоторых типов сенсоров, например полупроводниковых, характерна, так называемая, “колоколообразная” зависимость чувствительности датчика от температуры [3,4]. Такая зависимость возникает как результат наложения двух эффектов при увеличении температуры: эффекта увеличения скорости адсорбционного процесса и эффекта снижения степени заполнения рецепторных центров.
Разработка чувствительного слоя с рецепторами SO2
Возможности решения задачи создания организованных молекулярных ансамблей для детектирования определенных газов продемонстрируем на примере создания датчиков диоксида серы SO2. Детектирование SO2 представляет масштабную задачу, важную в приложениях в металлургии, теплоэнергетике, нефтегазовой переработке и т.д. В промышленных районах концентрация SO2 обычно достигает концентраций 0,05-0,1 мг/м. Максимальная разовая предельно допустимая концентрация SO2 (ПДК) составляет 0,5 мг/м3. Это соответствует 0,175 млн-1.
Как слабая льюисовская кислота, диоксид серы образует с аминами соединения донорно-акцепторного типа, из которых наиболее подробно изучены соединения, получаемые при взаимодействии SO2 с метилзамещенными аминами [21]. Известно, что SO2 в этих соединениях служит акцептором, а донорная способность аминов возрастает с увеличением числа метильных заместителей. Для комплексов SO2 с триметиламином в газовой фазе и в растворе гептана установлены их термодинамические характеристики. Имея в виду эти сведения, ясно, что рецепторный центр должен содержать функциональную группу алкилзамещенных аминов, и задача заключается в том, чтобы эти группы тем или иным препаративным методом встроить в твердотельную матрицу. Получение чувствительного слоя удобно осуществить, создав организованный молекулярный ансамбль на основе рецепторов замещенных аминов, распределенных в полисилоксановой матрице или в матрице слоя Ленгмюра-Блоджетт.
Во второй части статьи, которая будет опубликована в следующем номере журнала, мы рассмотрим результаты исследования процессов адсорбции SO2 в полисилоксановых и мультимолекулярных слоях.
Список литературы
1.
Jones A.,
Moseley P., Tofield B. The chemistry of solid state gas sensors,
Chemistry in
2.
Yulong Xu,
Xiaohua Zhou, O. Toft Sorensen. Oxygen sensors based on semiconducting
metal oxides: an overeview. Sensors and Actuators
В 2000. V. 65, 2-4.
3.
Jones T.A.,
Walsh P.T. Flammable gas detection. Platinum Metals Rev., 1988. V. 32,
50-60.
4.
Gentry S.J.,
Jones T.A. The role of catalysis in solid-state gas sensors. Sensors and
Actuators, 1986. V. 10, 141-163.
5.
Francis Menil,
Veronique Coillard, Claude Lucat. Critical review of nitrogen
monoxide sensors for exhaust gases of lean burn engines. Sensors and Actuators В 2000. V. 67, 1-23.
6.
Morrison S.R.
Mechanism of semiconductor gas sensor operation. Sensors and Actuators, 1987.
V. 11, 283-287.
7.
Seker F.,
Meeker K., Kuech Т., Ellis A.B. Surface Chemistry Prototypical Bulk II–VI and III–V
Semiconductors and Implications for Chemical Sensing. Chem. Rev. 2000, 100,
2505-2536.
8.
Lloyd Spetz A.,
Tobias P., Uneus L., Svenningstop H. et al. High temperature
catalytic metal field effect transistors for industrial applications. Sensors
and Actuators В 2000.
V. 70, 67-76.
9.
Kharitonov А.В., Zayats M., Lichtenstein A. et al.
Enzyme monolaeyer-functionalized field effect transistors for biosensor
applications. Sensors and Actuators В 2000. V. 70, 222-231.
10. Hierlmann A., Lange D.,
Hagleitner C. et al. Application-specific sensor systems based on CMOS
chemical microsensors. Sensors and Actuators В 2000. V. 70, 2-11.
11. Иоффе А.Ф. Встречи с физиками. Л.: Наука, 1983. С. 10.
12. Варфоломеев С.Д.,
Евдокимов Ю.М, Островский М.А. Сенсорная биология, сенсорные
технологии и создание новых органов чувств человека // Вестник РАН, 2000. Т. 70, № 2. С. 99-108.
13. Sugawara M., Kataoka M.,
Odashima К.,
Umezawa Y. Biomimetic ion-channel sensors based on host-guest molecular
recognition in Langmuir-Blodgett membrane assemblies // Thin Solid Films, 1989.
V. 180, 129-133.
14. Reichert W.M.,
Bruckner C.J., Joseph J. Langmuir-Blodgett films and black lipid
membranes in biospecific surface-selective sensors. Thin Solid Films, 1987, v.
152, 345-376.
15. Pier Lucio Anelli,
Neil Spencer, J. Eraser Stoddart. A molecular shuttle // Journal
American Chemical Society 1991, 113, № 13, 5131-5133.
16. Репинский С.М. Организованные молекулярные ансамбли как рецепторные центры твердотельных химических датчиков // Журнал структурной химии 1993, т. 34, № 6, 86-89.
17. Repinsky S.M. Organized molecular assemblies: creation and investigation of their functional properties // Macromol. Symp. 1998. V. 136, 61-85.
18. Репинский С.М. Микроэлектроника: от кристалла к организованному молекулярному ансамблю // Природа, 1997, № 5. С. 8-18.
19. Лифшиц В.Г., Репинский С.М. Процессы на поверхности твердых тел. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2001, 650 с.
20. Репинский С.М. Введение в химическую физику поверхности твердых тел. Новосибирск: Наука, 1993. 221 с.
21. Васильева Л.Л., Дульцев Ф.Н., Кручинин В.Н., Репинский С. М. Взаимодействие рецептор-агент в системе SO2 – третичный амин // Журнал физической химии, 1997, т. 71, № 3. С. 521-525.
Часть вторая статьи опубликована в № 10, 2001 г.
Работа ведется при поддержке РФФИ, проекты 01-03-32795
и 01-03-32796.
| Наверх |